|
А.П.Платонов
| |
| НиКи4 | Дата: Пятница, 07.03.2008, 14:20 | Сообщение # 1 |
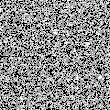 Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Пишем о Платонове Добавлено (07.03.2008, 14:20)
---------------------------------------------
Андрей Платонов
Корова
Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.
Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.
— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.
У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.
Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди.
Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться.
Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные.
Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.
Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.
Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.
— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли?
Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.
Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.
Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденоносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.
Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».
Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.
Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.
Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.
Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.
— Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.
— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!
Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.
— Я буду руками, так легче.
Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.
— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.
Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.
Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»
Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:
— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..
— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.
— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.
Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.
— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.
— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.
— Давай! — обрадованно согласился Вася.
Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.
Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу».
Машинист дал два длинных гудка — чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато.
Вася оглянулся и сошел с пути.
— Ты что же? — крикнул ему машинист.
— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...
— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.
Вася поднял с земли угощенье.
— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?
— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.
— Зажато! — крикнул он.
— Где? — спросил машинист.
— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!
Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.
Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.
Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.
— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?
— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!
— Он еще маленький, — произнес Вася.
— Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.
Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.
— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.
— А инструмент? — напомнил Вася.
— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...
И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.
Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.
Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.
И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.
Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.
Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.
К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.
Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала.
Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.
Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.
Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсож, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.
Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...
С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.
Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.
И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.
Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.
— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.
— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.
— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.
Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.
— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?
— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.
— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.
— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...
— Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.
— Здравствуй, — ответил ему Вася.
— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.
— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты ездишь плохо.
— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился!
— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.
— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.
— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.
Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.
На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.
Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.
В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.
Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».
Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.
оооО Оооо
(___)_(___)
_\_(___)_/
__\_)_(_/
ОСТАВЬ СВОЙ ОТПЕЧАТОК!!!
Сообщение отредактировал НиКи4 - Пятница, 07.03.2008, 14:20 |
| |
| |
| Aleks_sandra | Дата: Пятница, 07.03.2008, 15:58 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Вот и моя работа! Я убежден, что Платонову было с т р а ш н о жить, но не из-за
обстоятельств собственной судьбы - создатель "Чевенгура" мог понимать свое
существование в этих обстоятельствах только как временное, отсюда и
усталость в каждом платоновском взгляде, дошедшем до нас. Никакой более
страшной картины невозможно представить человеку, чем картина убийства,
воспаляющая ответной судорогой выживания каждый нерв и как будто на живой же
плоти выжигающая свою реальность. Платонов видел смерть, которую сеяла
революция в воронежских степях. Но что пробудила в нем первая увиденная
картина смерти? То, что после никогда он не мог забыть - и настойчиво
выписывал эту одну и ту же картину смерти: прекращение, убывание,
исчезновение, отнятие жизни.
Главным событием той исторической эпохи было убийство Бога: не сына
Божьего, но помазанника Божьего - не от неверия посланному Богом, а от
неверия в самого Бога. Поэтому блекнут события самой истории и Россия
скукоживается на смертном морозце до места этой казни, где каждой каплей
крови и каждой человеческой слезинкой исполнялся приговор, объявленный Богу.
Метафизичность этого уничтожения не делает его менее действительным, ведь
производило оно действие в миллионах вовсе не условное, а почти мышечно
ощутимое в том, как работал молох убийств и в одержимости нового человека в
борьбе с миром Божьим как с источником страданий. Физическое же убийство
Бога было вложено в осязаемую и достижимую идею построения царства всеобщего
равенства на земле. Венец этого царства - смерть Бога. И каждое новое
убийство во имя этой идеи было даже не жертвоприношением, а еще одним
кирпичиком в ее фундамент.
Ни до, ни после, но в момент духовного убийства веры в России является
писатель, изъясняющийся на чуждом собственно словесности изначальном языке
метафор человеческого существования со знанием того, что это убийство отнюдь
не метафизично. Он его свидетель. Он ученик убитой веры, ее апостол. Некто
Андрей сын Платонов, родившийся в Воронеже в семье рабочего. Русский
пролетарий, верующий, что освобожденное человечество, оснащенное умными
одухотворенными машинами, способно воздвигнуть рай на земле.
Инженер-мелиоратор, скитавшийся по опустошенной голодной степи как строитель
вселенского рая.
Но о "России, пропахшей трупами" cказано было Платоновым в "Симфонии
cознания" уже не с утопическим пафосом. Россия, пропахшая трупами - это даже
не метафора. Трупы усеяли русскую землю: она кормится смертью - и несет
смерть засухой, недородом. Природа заражена смертью, существование людей
неподлинно, жертва сокрушительна... Что Платонов, наподобие раскаявшегося грешника, разглядел в
коммунистической утопии "Россию, пропахшую трупами" - этого не могло быть.
Он не раскаивается в своей любви к трудовому русскому народу и в своей вере,
рожденной еще в молодом одержимом человеке идеей вселенского беззаветного
строительства: но вот самого этого человека встреча с чем-то будто бы
подменила. Суть платоновского писательства и дара, открывшегося в нем - в
таинстве превращения, но не в убогом социальном покаянии или осознание
собственных жизненных ошибок. И могло это быть встречей только с чем-то
сверхъестественным, что заставило его испытать нечто более мощное и
действительное, чем даже одержимое упоение революционной мечтой, и повлекло
апостольским путем в обезбоженный прекрасный и яростный мир.
Что было явлено простому смертному Андрею, казалось, только одному из
ведомых, в безбожных воронежских степях? Ответ на это в таинстве
последующего превращения, когда мы видим Платонова, писателя страха перед
концом даже шумной и яростной коммунистической стройки, в котлован которой
фундаментом кладут трупы становящихся мучениками - и жертв, и строителей;
когда в картине каждого его повествования зияет смерть, и чем сокровенней
Платонов вглядывается в это страдальческое зияние, тем явственней на его
поверхности проступает... образ р е б е н к а.
Убийство ребенка, смерть ребенка или человек-ребенок, намеченный
смертью как самая легкая добыча, или же блуждающий, сам того не ведая, в ее
сумеречных пустынных пределах - это постоянное исповедание Платоновым
какого-то ощутимо страшного таинства, в котором произошло однажды его
превращение души. Как это было в действительности - опять же возможно только
ощутить. Все написанное Платоновым внушает ощущение, что он свидетельствовал
в каждом из разноликих своих детских образов о смерти одного-единственного
ребенка, потрясшей его еще в молодости, когда сам он не был отцом, но
воспринял умершее живое существо как Отец. Образ ребенка в его прозе все
времена пронизывало отцовское сострадание, то есть душевное свидетельство
присутствия любящего человека. Но взгляд Платонова - посторонний, если и не
потусторонний, писатель в состоянии остановить происходящее, изменить
причинность событий даже в том, что пишет. Но и это бездействие - не
замысел, не волевое творческое решение: Платонову будто бы дано знание, что
отсроченное или отмененное его волей и в его замысле уже ничего не изменит
ни в его судьбе, ни в судьбе всего племени людей.
После превращения, произошедшего с Платоновым, проигрывание вариантов
жизни утратило для него как для художника смысл, и в этом платоновском
глубинном реализме заключалось нечто более значимое: он осознавал себя не
просто посвященным в какое-то страшное таинство, но и смирился с
присутствием уже в своей жизни судного дня. На его столе письменном водился
чертик - мещанская штамповка фигурки приплясывающего и дразнящегося беса...
Ему было видение, о чем написал однажды в письме к жене: явилась темная
странная фигура, в которой узнал самого себя... Вещь на письменном столе или
появление потустороннего двойника - это знаки того, что в жизни человека
присутствовала и вынуждала себя осознавать высшая гнетущая сила.
Видения платоновской прозы связаны сверхъестественно во времени с тем
событием, которое в России произошло под покровом непроглядной тайны: казнь
царской семьи с совершением группового детоубийства. Неотступно изображая
страшное таинство детской смерти, Платонов воссоздавал действительность
казни царственного ребенка. Его собственное неотступное видение умирающего
ребенка будто б открыло в нем дар ясновидящего и ввело всем существом в круг
тех сил и превращений, где он ощущал себя гнетуще и страшно тенью самого
себя. Так ощущает себя Свидетель. Но и казнь, произошедшая в Екатеринбурге,
была тенью свершавшегося события. Это детоубийство свидетельствовало о казни
Сына Божьего с той новой силой и смыслом, как если бы прошлое, произошедшее
на Голгофе, не было исполнением пророчества, а само пророчествовало о
будущем новом убийстве. В этот замкнувшийся круг бытия, в мир этой вечности,
сотворенной на крови Агнеца, и вошел свидетелем некто Андрей, сын Платонов.
Само его отношение к понятию "революция" с этого момента утрачивает всякий
смысл. Фразы "Платонов принял революцию" или "Платонов предал революцию",
писавшиеся в биографических сведениях новейшего времени или в личное дело
писателя рукой соглядатаев-партийцев, охотились лишь за тенью. Платонов,
свидетельствуя и обретая себя подлинного, становился тенью по обе стороны
своей подлинности: вот он в ночном мороке видит двойника - ожившую свою тень
- в том мире, который ощущает куда более действительным, чем "революцию" и
куда ложится от него такая ж по сути тень, только блуждающая с портфелем
совслужащего и присутствующая не на тайной вечере, а на литературных
проработках да собраниях советских писателей. Одна тень - как воплощение
действительности апокалипсиса и она сильнее, чернее, явственней. Другая -
след его то ли присутствия, то ли отсутствия в "советской действительности",
неприметная и неприветливая для чужих, как замаскированный вход в настоящий
сокровенный мир. В этот мир Платонова входили только творчество да семья.
Это было его подлинным. Но в ряду сверхъестественных совпадений самое
гнетущее - история смерти Платонова. У него - у отца - был отнят в лагеря
ребенок, сын, Платон Платонов. Известно, что Шолохов помог Платонову
вызволить сына из заключения, уже смертельно больного туберкулезом. Платон
умер, но отец перенял от сына туберкулез: болел, как и он, и скончался той
же смертью, что и его сын, его ребенок.
Творчество - великая благодать. Но сам Творец, наделяя художников
способностью преображать действительность, жестоко защищает от человека
цельность и смысл мира как своего творения необратимостью расплаты.
Есть сила гения, пробивающая запретное, недоступное людям - и этот
гений, этот Проводник или Поводырь людской в зону роковых превращений будет
за свое знание о ней назначен к точно такой же по своему смыслу расплате:
его знание, будто недоимка, станет его же роком - долгом, что взыскан будет
отнятой волей к жизни. Платонов воссоздавал действительность новозаветного
детоубийства, но свидетелем русской истории как пути на Голгофу с закланием
Агнеца на ее вершине стал человек не близкий к Богу, а тот неотвратимо
далекий от Него, кто в своем воображении или сознании связал в одно
космическое событие физическую смерть Агнеца - и духовную Бога. Своими
муками на кресте Сын Божий искупает первородный грех и после, с Его
воскрешением из мертвых, людям открывается путь в бессмертную жизнь, в
Царствие Небесное. Платонов без всяких сомнений понимал эту библейскую
причинность - но всю силу своей духовной веры обратил в отрицание
всеискупляющей жертвы, видя в смерти Агнеца и смерть Бога, понимая
строительство мира на жертвенной крови как апокалиптическое его крушение...
Платонов не поверил в воскрешение через смерть. Платонов, осознавая мир как
творение и присутствие в нем высших сил, не поверил в отцовство Бога.
Природа, космос, ребенок - священный круг платоновской прозы. Но в этом
круге мироздания пусто место Бога. Идея воскрешения погибших, восстания
человека из царства мертвых внушена Платонову не верой в Бога, а неверием в
его отцовство над природой и людьми. Воскрешающая сила по Платонову -
любовь, но опять же не к Богу. Это любовь, исступленно не признающая смерти,
то есть природное вживание в сотворенное твой же любовью существо. Платонов
говорит, что вечна любовь матери к своему ребенку и неистребима никакой
силой. Также понимает он любовь, как вживание души Отца в душу Сына. Рушит
эту в е ч н о с т ь л ю б в и не смерть как таковая, а посыл волевой к
смерти. Отец не может послать на смерть, если любит своего Сына, воскрешение
же из мертвых невозможно без любви. Платонов вдохновляется самой идеей
воскрешения, отцовской по своей сути, и верит в ее действительность, в
дарованную после смерти вечную жизнь, как в посыл любви. Ему было страшно,
что перерождаются природа и человек, исчезая как источники любви. И все уже
творчество Платонова - есть преодоление этого страха, по сути, страха
смерти.
Платонов писал о смерти. Так как смерть не может быть безлична, то
писал о смерти человека, коровы, растения - живого существа: что было
смертно, то было для него, парадоксально, и живое - одушевленное отцовской
любовью или детской слабостью страдания. Платонов заворожен не самой
гнетущей картиной умирания, а смертью как трагическим преображением вещества
существования, то есть живого, и все его герои также находятся в этих
странных - завороженных, медленных отношениях со смертью. Духовно он следует
этапами смерти, одолевая главные ее состояния для человека: свидетеля чужой
смерти; утрачивающего любящего или любимого; расстающегося с родным
существом; умирающего в силу естественного прекращения сил или испытывающего
суицидную тягу к смерти; идущего на смерть как на воинский подвиг;
приговоренного к смерти и ждущего казни; новорожденного на свет в природной
мене со смертью... Последнее стало фабулой "Счастливой Москвы" - эпилогом к
великой личной теме.
Толстой и Достоевский таили в себе страх как сомнение, только давая
понять, что место любви к Богу в человеческих сердцах опустело и душа без
любви влечется к преступлению, но любовь убита в человека ни чем иным как
испытанием справедливости мира Божьего, по сути - испытанием веры. Эта
недосказанность предвосхищала неизбежное появление в России того, кто должен
был все досказать. Наступивший век давал своей стихией невиданную свободу
новому гению и готов был к откровению о начале апокалипсиса. Из отмеченных
избранничеством Платонов выдержал все простые, но и неимоверные тяжкие
испытания: он не предал самого себя и не зарыл в землю написанного - тот,
кому дано было ощущать всю меру страха, оказался не сломлен и не разрушен
страхом. Гений же апокалипсиса и должен был - преодолеть Страх.
Читая, мы изучаем книги, только если в них заложено некое задание.
Каждая книга содержит какое-то знание о жизни, но не каждая содержит в себе
задание. Проза Платонова есть главный рассказ о бытии человеческом, но в ней
нет самого библейского задания, так как это рассказ о жизни человеческой без
Бога. Это откровение - но весть не о будущем, а уже о начавшемся: о
вступлением в действие тех сил, которые обрекают человечество на умирание.
Сегодня, однако, внушается, что проза Платонова - это языковое
изысканное явство, и только. Блюдо для гурманов. И так совершается со
временем возвращения Платонова в литературу обман или подлог, потому что он
никогда не писал для эстетов. Его творчество было обращено прежде всего к
простым людям, а слова и мысли также ясны и просты. Он не создал духовного
учения, но взгляд его на человека и на мир, как цельность, содержит в себе
ценнейший нравственный и духовный опыт - философию существования. Творчество
Платонова - это не только мир его прозы, но весь путь от книги стихов
"Голубая глубина" до недописанной драмы "Ноев ковчег". Оно движется
духовными этапами и свободно по форме. Он драматург и сценарист, сказочник и
очеркист, прозаик и поэт, читатель и критик, научный изобретатель и философ.
Но во всех своих творческих ипостасях Платонов един, потому как все
соединяет и объемлет в себе г е н и й - такая сверхъестественная цельность
воли и природного дарования в человеке, что уже не требует творческих
поисков той же самой цельности и ведет только путем открытий. Приход к
определенной художественной форме для гения - суть внешнее. К ней ведет его
не поиск самой формы как цельности, а предчувствие открытия. Выбор между
жанрами и родами искусства здесь существенен только как выбор того или иного
способа заявить об открытии. Великая картина платоновского творчества - это
не копия с реальности тех самых лет и не сюреалистическое преображение
реальности, а явленная действительность будущих событий. Это то, что можно
назвать "фантастикой", если не верить в единство всех бывших и будущих
событий. Платонов создал новый духовный простор там, где все было без него
кромешно спрессовано смертью и ощущением конца. Он исповедовал любовь, и как
последнее спасение - воскрешающую любовь к мертвым. Не к мертвецу, а к тому
ребенку, которым предстает перед смертью каждый человек. Преданность этой
любви и этому сознанию в Платонове были таковы, что если бы Бог был смертен,
именно тогда он бы ощутил Его живым - и уверовал бы в Него, и возлюбил. И
это страстное подлинное отрицание Бога более всего свидетельствует о
религиозности Платонова и об искреннем осознании им Бога как вечности,
против которой он восставал.
Но читательская любовь, воскрешая писателя из мертвых, являет собой
свершившийся суд. Богом ниспосланная, любовь и есть отсвет высшего суда: она
вложена в сердца знамением о том, что свершилось после смерти. Творец всего
сущего на земле так вот воскрешает творцов - как сущее. Воскрешает любовью.
Понять же Платонова - значит и понять слепость, поспешность поэтической
строки, ставшей у нас вездесущей: "они любить умеют только мертвых"...
Обращенное к России и к русскому народу - это звучало и звучит то с
презрением, то с искренней болью, но никто отчего-то не отдает себе отчета,
что воскрешающая - именно эта любовь, "любовь к мертвым". Мы любим Пушкина.
Мы любим Толстого... Мы любим Платонова. А вот и фото!
sandra 5b aleks_
Сообщение отредактировал Aleks_sandra - Пятница, 07.03.2008, 16:06 |
| |
| |
| janoks5 | Дата: Суббота, 08.03.2008, 11:08 | Сообщение # 3 |
 Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Волчек Был двор на краю города. И на дворе два домика -- флигелями. На улицу
выходили ворота и забор с подпорками. Тут я жил. Ходил домой я через забор.
Ворота и калитка всегда были на запоре, и я к тому привык. Даже когда лезешь
через забор, посидишь на нем секунду-две, оттуда видней видно поле, дорогу и
еще что-то далекое, темное, как тихий низкий туман. А потом рухнешься сразу
на земь в лопухи и репейники и пойдешь себе.
Выйдет навстречу не спеша -- знает, что это я -- Волчек, поглядит
кроткими человечьими глазами и подумает что-то.
Я тоже всегда долго глядел на него, в нем каждый раз было другое, чем
утром.
Раз шел я по двору и увидал, что Волчек спит в траве. Я тихо подошел и
стал. Рыжий Волчек чуть посапывал и ноздрями на земле выдувал чистоту. По
шерсти у него пробиралась попова собака.
Кругом было тихое неяркое утро. Солнце приподнималось в теплом тумане,
который все рассеивался и рассеивался и сжимался в голубой высоте в облака.
Далеко выл у запертого семафора паровоз и звонили колокола по церквам.
Репьи стояли тонко и прямо, ни ветра, шума, ни ребятишек не было.
Волчек проснулся и не двинулся, а лежал как лежал с открытыми глазами,
глядел в темную сырость под лопухи.
Я наклонился и притих. Волчек, должно быть, не знал, что он собака. Он
жил и думал, как и все люди, и эта жизнь его и радовала и угнетала. Он, как
и я, ничего не мог понять и не мог отдохнуть от думы и жизни. Во сне тоже
была жизнь, только она там вся корчилась, выворачивалась, пугала и была
светлее, прекраснее и неуловимее на черной стене мрака и тайны.
Спереди, пред ним и предо мной, все радуется и светится, а сзади стоит
и не проходит чернота, и в снах она виднее, а днем она дальше и про нее
забываешь.
Волчка давил виденный сон. В нем он тоже видел эти лопухи и сырую тьму
по корням, но там они были и такие и не такие. И вот он опять смотрел и не
мог ничего понять.
На дворе была еще собака Чайка. И когда были собачьи свадьбы, собаки
бесились, гонялись за Чайкой, один Волчек был такой же, как всегда, и не
грызся из-за Чайки.
Хозяин думал, что он больной, и давал ему больше костей и щей после
ужина. Но Волчек был великан и совсем здоров.
Чужих ребят, какие приходили играть на двор, он не хватал за пылки, а
бил оземь хвостом и глядел с уважением и кротостью.
Я Волчка за собаку не считал, за то и он полюбил меня, как любит меня
мать.
Я тоже ничего не знал и не понимал и видел в снах тихое бледное видение
жизни. Смутные облака трепетали в небе, и ветер гнул целые дубы, как
хворостины, а я стоял в каком-то саду и не слышал, как шумел ветер, и сразу
удивился и понял, что это сон, и проснулся.
Было полнолуние, и в комнате бледный свет лежал на полу. Я потянулся и
попробовал рукой холодные доски.
Раз я спросил у отца, который любил меня и жалел, как маленького, не
знает ли он чего, чего еще никто не знает и про что и в книгах не написано.
Он сказал, нет, я все думаю про Бога, но его тоже не могу узнать.
А на другой день за обедом досказал: оттого мы ничего не знаем, что и
узнавать, должно, нечего. А тебе к чему нужно знать?
А я сказал -- да, а жить-то как же? А узнавать есть чего, хоть бы то,
отчего мы хотим знать все, если и узнавать нечего, все живет само собой в
черноте и пустоте. Отчего кругом томление и борьба? Вот мы прожили немного
после революции и уж увидали, как легко устроить всех сытыми и довольными,
лишь бы осталась у нас власть нас самих. Но нам захотелось знать, и не нам
одним.
Отец помолчал и перестал есть. Я всю жизнь -- сказал он вечером --
работал, кормил вас и одевал, не мог никогда не думать, а теперь привык.
Теперь жизнь другая, и я все растерял. Но я люблю тебя, и ты, может, выйдешь
на большую дорогу, тогда делай, что хочешь, а я не могу, я уморился и сидя
сплю. Я только жду хорошего, а какое оно, не могу узнать. Всю жизнь я ждал
чего-то хорошего и тебе отдаю эту надежду.
На другой день я так же лез с работы через забор и Волчек встретил меня
любящими глазами, и в пустых водяных его глазах сидела мертвая сосущая
мысль, как каменная гора на дороге домой.
Чайка юлила под ногами, а Волчек молча стоял вдалеке и смотрел. Ему
оставалось одно -- либо издохнуть, либо дождаться первой собачьей свадьбы и
cхватиться с другими кобелями из-за Чайки. Но Волчек оставался посредине и
раздумывал. Тут была его худшая гибель, и он видел сны, пугался и жил хуже
мертвого.
-- Волчек, Волчек, Волчек... -- Я прошептал это и погладил его. Он
прижмурился и заблестел глазами. На миг он ожил и понял, что я жалею и люблю
его, как меня жалеет отец. Может, он и глазами заблестел оттого, что понял
мою жалость и любовь, взял знание, и в первый раз сзади сияния жизни не было
черноты и угнетения.
-- Волчек, Волчечек...
Волчек от радости подметал хвостом и повизгивал. Отчего раньше я не
догадывался гладить и обнимать его? Нет, тогда бы он понял мой обман и
потерял свое первое верное знание, что есть любовь в жизни и сочувствие.
Волчек вертанул шеей, и я увидел, какая у него не собачья, почти
человеческая круглая задумчивая голова. Глаза стояли и вглядывались. Он
живет не лучше меня.
В этот вечер я пошел по улицам. Белые городские дома в синей луне
стояли и глядели окнами на тихо гуляющих людей. Томление и раздумье было во
всех.
Кто не любил, тот хотел любви. И никто ничего не знал, зачем это.
Я встретил Маню, в которую был немного влюблен. С ней шел человек с
добрым и счастливым лицом.
-- Это Витя, -- сказала Маня.
И я пошел рядом. Во мне поднялась тоска. Я чувствовал, как горело мое
тело. Но в голове было ясно и хорошо. Я смеялся в мысли и мучал себя. Я
знал, отчего во мне тоска и отчего вечер кажется задумчивым любящим далеким
существом, прилегшим на землю. Я знал и смеялся. Знал, что все не такое, как
кажется. И вот вечер, и эта Маня, не задумчивые полюбившие существа, а
другое, что я еще не знаю. И по истинной сущности все это, наверно,
ничтожно, жалко и гадко.
Если бы созналось это всеми, то увидели бы, что не любить надо, а
ненавидеть и уходить дальше, начинать перестраивать все сначала.
Отчего все ходят по земле, и никто не знает, что она такое?
На другой день я на работу не пошел, а ушел скитаться в поле. А там лег
в рожь и думал до вечера, где найти настоящих людей, которые все знают. Где
лежат настоящие книги?
Сам я ни о чем не мог догадаться и что узнавал, в том сомневался и
начинал опять сначала. А жить и не знать -- так и Волчек не мог. Я должен
ясно увидать все до конца и быть уверенным и твердым в жизни.
Раньше никому не нужно было знание, потому что нужен был хлеб и
размножение людей. Благо было в полном удовлетворении тела. Теперь благо в
истине, только это одно я узнал в тот день и пошел счастливый домой.
На дворе я лег в траву и стал глядеть в землю -- пыль, песчинки, дохлая
мошка и муравьиные дороги.
|
| |
| |
| brig | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 22:03 | Сообщение # 4 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Ребята, поделитесь впечатлениями от прочитанного.
Интересно или не очень????
|
| |
| |
| НиКи4 | Дата: Вторник, 25.03.2008, 15:31 | Сообщение # 5 |
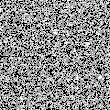 Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| в среднем неплохо
оооО Оооо
(___)_(___)
_\_(___)_/
__\_)_(_/
ОСТАВЬ СВОЙ ОТПЕЧАТОК!!!
|
| |
| |
|




